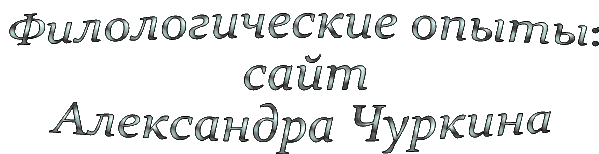Чуркин А. А.
Тема и мотивы семьи в «Семейной хронике» С. Т. Аксакова
Русская литература. 2009. № 1. С. 133–145.
“The Family Chronicle” by S. T. Aksakov became the first work of literature where the family had grown from just a background for events to the theme of narrative. Owning to it many traditional motifs and stock characters have entered upon specific interaction and got new sounds. The culture hero joined with motif of heir waiting in the character of Stepan Bagrov. One can discover streak of the folk wise bride in the mother of the narrator. The combination of this motifs and characters with schemes of matchmaking and marriage through their chronotopes forms structures those are correlative to the principles of genealogical lines described by P. Florensky.
Любое исследование мотивной системы литературного произведения почти неминуемо будет отталкиваться от классического определения, данного А. Н. Веселовским в «Поэтике сюжета»: «Под сюжетом я разумею тему, в которой снуются разные положения-мотивы».1 Это естественно, ведь выражение Веселовского не только дает емкую формулировку понятию «сюжет», но еще и фиксирует внутренние взаимосвязи каждого из его составных элементов: сюжета, темы и мотива. В каком бы направлении в дальнейшем ни интерпретировалось и уточнялось, к примеру, понятие «сюжет», концептуальная его основа, вытекающая из данного определения, сохраняется нетронутой. Сюжет — это нечто, неразрывным образом связанное с содержанием произведения, его Идеальная схема, некая абстрактная сумма смыслов, вложенная в него автором или воспринятая читателем. Причем здесь особо значимо слово «сумма»; недаром, желая подчеркнуть присущее мотиву и особенно сюжету качество суммарности элементов содержания, Веселовский для наглядности использовал алгебраическое выражение: «а+Ь».2
То, что сюжет является результатом суммирования, схематизированного упорядочения присущих произведению смыслов, радикально отличает его от другого составного элемента формулы Веселовского — темы. Тема, как, впрочем, и сюжет, есть результат абстрагирования от с0держания‚ но_абстрагирования в максимальной степени, с вынесением, по возможности, за скобки всех частностей. В своем предельном выражении тема — это содержание произведения, выраженное всего одним словом. Тема ассоциируется с представлением о внутренней целостности произведения. И тема, и сюжет заключают в себе идею произведения как некоего единого целого, но если в теме на первый план выходит его единичность, исключительность, то в сюжете — внутренняя сложность этого целого, его многосоставность. В теме единство произведения заявляется, а через сюжет оно осуществляется, поскольку сюжету присуща особая синтезирующая функция, благодаря которой любой семантически значимый элемент оказывается связан с целым — темой произведения.
Если тема и сюжет соотносятся между собой как две формы реализации категории «целого», то категория «частного» проявляет себя в тексте через мотив. Именно через соединение мотивов реализуется отмеченная синтезирующая отдельные частности функция сюжета. Причем в данном случае можно отвлечься от проблемы «разложимости» мотива, которая неизбежно встает при рассмотрении этого понятия. Тем более если опереться на понимание этого термина, предложенное Б. В. Томашевским, то «каждое предложение обладает своим мотивом».3 Вообще, какое бы из многочисленных определений мы ни использовали, везде за понятием «мотив» будет стоять идея частного, некой единицы, лишенной самостоятельного существования и обретающей его лишь внутри целого — сюжета произведения и его темы.
Сюжет, тема, мотив — вполне устоявшиеся термины, уяснению и интерпретации смысла которых посвящена обширная литература.4 Рядом с ними в формулировке А. Н. Веселовского присутствует еще и довольно странное для современного уха слово — «снуются». В современном языке мы, как правило, используем его для описания беспорядочного движения взад и вперед, в XIX же веке оно имело смысл почти противоположный. По Далю, первое его значение: «Сновать пряжу, сновать основу, сновать красна, прокладывать основу, продольные нити ткани, по которым ходит уток. Сновать решетку, в вышивке, плести иглой».5 Итак, когда мотивы снуются, они прокладывают основу, на которую в дальнейшем лягут и с которой тесно переплетутся другие сюжеты, мотивы и все остальные элементы повествования. Причем выстраивание этой основы происходит не бессистемно, а с соблюдением ключевого правила, которое вытекает из формулы Веселовского: мотивы снуются в теме произведения, т. е. отбор мотивов и их связь определяются тематикой. То, как происходит этот процесс «снования», как закладывается мотивная основа текста, мы и рассмотрим далее на примере «Семейной хроники» С. Т. Аксакова.
В связи с тем что мотивы неразрывно связаны с темой всего произведения, любой анализ мотивной структуры текста по необходимости должен начинаться с уяснения его тематики. Если в «Семейной хронике» выделить как центральную, например, «тему семьи», то это во многом предопределит и направление всего исследования. Конечно, обозначая тему любого произведения, мы вынуждены основываться на своем собственном субъективном восприятии содержания произведения, и даже внутри этого субъективного восприятия в процессе абстрагирования многое редуцировать и еще большее выносить за скобки. Однако не стоит из этого делать вывод о ложности любого предварительного суждения о теме произведения и принципиальной невозможности ее вывести. В конце концов определение темы — это лишь начальный этап работы, и только дальнейшее исследование мотивной системы покажет, насколько верным и продуктивным оно было. Положительным результатом стало бы выявление в произведении некоего слоя, или, если продолжить «ткацкую» метафору Веселовского, сетки, канвы взаимно перемежающихся нитей-мотивов, своим переплетением скрепляющих в единое целое ткань повествования.
Тема семьи — одна из самых распространенных в литературе. Трудно найти произведение, в котором она не присутствовала бы то в форме авторских размышлений о тех или иных проблемах семейной жизни, то через использование специфических мотивов. Эти мотивы связаны с понятиями любви, брака, детства, воспитания и т. д.; подробно перечислять их не нужно, поскольку они общеизвестны, да и число их чрезвычайно велико — все они широко распространены в искусстве вообще и в литературе в частности. Значение этих мотивов естественно определяется ролью, которую играет семья в жизни как отдельного человека, так и общества в целом.
Однако, несмотря на ее универсальность, не так много существует произведений, где тема семьи становится центральной. Традиционно тематическое ядро повествовательного литературного произведения героецентрично, поскольку строится на образе героя, иногда отдельного человека, иногда нескольких людей, судьбы, характеры и эмоциональные переживания которых лежат в основе канвы сюжета. То, что эти люди могут быть связаны между собой родственными узами, является хотя и важным, но лишь одним из составных элементов характеристики героев. Герой может создавать свою семью, поддерживать ее существование, защищать ее от вторжения враждебных сил или лиц, но при этом все равно в центре повествования, как правило, остается сам герой, а не его семья. Даже в таком жанре, как семейный роман, семья служит скорее фоном, на котором ведется повествование о жизни и судьбе отдельных персонажей. Но нет правил без исключений, и тем более интересны произведения, в которых сама семья как единое, целостное явление становится темой художественного осмысления. Происходит это тогда, когда семья как бы берет на себя сюжетообразующие функции героя, семейные отношения перестают играть второстепенную роль мотивировки поступков персонажей, а начинают занимать едва ли не центральное место. В итоге семья начинает восприниматься не просто как группа лиц, а как некое замкнутое на себя единое целое.
Литература вообще, а мемуарная и биографическая, в силу своей документальности, в особенности, стремится к прямому отражению повседневной реальности; но, с другой стороны, оставаясь литературой, она неминуемо вынуждена прибегать к выработанному предшествующей традицией художественному языку и как бы адаптировать изображаемую реальность к возможностям этого языка. В результате в описаниях конкретных, реально существовавших лиц проступают черты персонажей фольклорных, мифологических, возобновляются древние архетипы и мотивы. Определенная трансформация происходит и с принципами изображения семьи, когда она выходит на передний план повествования. В этом случае идея семьи как некоего единого целого, как самодостаточного организма начинает воплощаться через архаичные родовые мотивы, и в первую очередь через те из них, которые напрямую связаны с Идеей единства рода, его внутренней целостностью, — например через архетипы общего предка и героя-наследника, мотивы сватовства и свадьбы. Существуя в комплексе, именно эти мотивы «снуются», составляют своего рода основу, на которой и будет строиться повествование в той его части, которая касается жизни семьи.
Понятия, связанные с идеями рода и наследования, имеют глубочайшие, уходящие в первобытное сознание человечества корни, но архаичность этих понятий не препятствует их включению в категориальный аппарат философской и научной мысли. В свое время в гигантском по охвату тем и, к сожалению, неоконченном труде «У водоразделов мысли (черты конкретной метафизики)» о. П. А. Флоренский определил идею родства как ключевую для культурологии и выполняющую в науках исторического цикла ту же функцию, что и категория причинности в науках естественных.6 Развивая это положение, он выделил генеалогию в качестве первичной формы фиксации исторического знания. Основные категории, формирующие систему генеалогической связи, он описал следующим образом: «Родствó и свойствó — вот наименование основных типов генеалогической связи. <...> корень родства — сыновство, корень свойства — женитьба. Отче-сыновние отношения и отношения брачные не сводимы друг на друга. И если первые, как мы видели, образуют связь поколений во времени, то вторые — условие единства в пространстве. Сеть свойства и р0дства образует ту основу, на которой располагаются прочие временно-пространственные отношения явлений. Координатными же осями служат отчество и брак. Повторяю, они не сводимы друг на друга. Отчество и брак наиболее глубокие основы для идеи времени и пространства, т. е. для всего познания. Все виды отношений произведены около этих и мыслятся по подобию этим. Всякое отношение мыслится либо как род родительства-сыновства, либо как род брака».7
Таким образом, понятия родства и свойства, по мнению Флоренского, соотносятся с философскими понятиями времени и пространства, причинности и взаимодействия, для нашей же темы они важны прежце всего тем, что могут рассматриваться не только как принципы генеалогических отношений, но и как структурообразующие категории семьи. Эти категории выступают в качестве системной основы большинства мотивных комплексов, объединенных понятием семьи. Так, категория «родства» оказывается внутренне сопряжена с архетипами предка, потомка и мотивами наследования, а категория «свойства» — с архетипами жениха (мужа), невесты (жены) и многочисленными мотивами, группирующимися вокруг обряда свадьбы. Началом, позволяющим каждому из этих архетипов и мотивов взаимодействовать друг с другом, оказывается характерная для каждого из них пространственно-временная определенность. Другим важным следствием, вытекающим из концепции генеалогии, выработанной о. П. А. Флоренским, является указание на существование особого хронотопа, присущего понятию «семья» и мотивам, связанным с ним.
* * *
В повествованиях о происхождении и истории рода присутствует внутренняя логика в отборе событий и последовательности изложения. Эта логика имеет явно архетипичный характер, поскольку устойчиво воспроизводится в фольклорных записях внутрисемейных преданий. Порядок изложения деталей в них может меняться, но, как правило, эти предания включают в себя этикетное рассуждение об ограниченных возможностях человеческой памяти, столь же этикетное сожаление о смерти представителей старших поколений, из-за которой нельзя восстановить многие факты. Затем следует рассказ о предках, их родственных связях, браке, рождении детей и иногда о каких-либо особых событиях их жизни: По ходу изложения через хронологические соотнесения делаются попытки увязать историю семейную с историей страны (войны, смена правителей в государстве и т. д.). Наконец, еще одна немаловажная деталь: рассказ обычно начинается с описания местности, откуда происходит род, и, по возможности, времени, с которого он там обосновался.
Структура повествования о происхождении рода воспроизводится не только в фольклорных жанрах, но и в беллетристике. Поэтому, наверное, не случайно, что в «Семейной хронике» важное место занимает рассказ о переезде предка (деда или прадеда) в новое поместье, а также описание местности, куда он переселился. Аксаков подробно изображает организацию, последовательность и сопутствующие обстоятельства переселения. Рассказ этот приобретает по сути дела эпические формы благодаря наличию в нем как бытовых подробностей переезда, так и аксаковских пейзажных зарисовок. Стилистику их отличает, с одной стороны, исключительная точность, столь свойственная Аксакову-натуралисту, а с другой — слегка приподнятая за счет риторической образности тональность. Это сочетание ярче всего представлено в главке «Оренбургская губерния», где сквозь образ оренбургского края, созданный Аксаковым, проступают черты идиллического пейзажа, «земли обетованной» в ее романтической модификации как чудесной земли с благоприятным климатом, наполненной всевозможными богатствами, лесами, полными дичи, реками, изобилующими рыбой, почвой непаханой и плодородной.
Помимо вышесказанного, рассказ о переезде несет еще одну специфическую функцию, значимую как для сюжета, так и для стилистики повествования. Сам факт этого переезда как бы разламывает единый хронотоп существования рода на две части, оказывается своего рода рубежом, с которого начинается новая «историческая» жизнь семьи. Все, что было до переезда, становится или предметом для генеалогических разысканий, или, что особенно важно, оказывается сдвинутым в область преданий, в эпическое прошлое. Все, что происходит после него, существует не как предание, а как живая, относительно недавняя реальность, предмет личных воспоминаний повествователя. При этом описанный разрыв не носит фатального характера, эпическое прошлое и историческое настоящее, личная память и родовое предание диалектически связаны друг с другом.
Диалектика личной памяти и родового предания обусловлена архаическим мировоззрением, которому свойственно восприятие отдельной личности прежде всего как части рода. Судьба и характер человека — отражение некой «судьбы рода», детерминирующей поступки каждого из его представителей. Эта, казалось бы, вполне абстрактная, на первый взгляд, идея понималась людьми той эпохи вполне конкретно, как реальное воплощение в потомках личностных качеств, свойственных их предкам. В итоге вся «судьба рода» оказывалась в значительной мере заложенной в личности одного человека — первопредка, деятельность и даже особенности характера которого влияли на его потомков.
Среди форм, которые приобретает архетип первопредка, одной из важнейших является «культурный герой». Традиционно это мифический персонаж, сочетающий в себе черты цивилизатора и благодетеля, он добывает или изобретает для людей различные предметы культуры (важнейшие орудия труда, огонь), учит охотничьим приемам, ремеслам, устанавливает справедливые законы и социальную организацию для своих потомков. Деятельность Степана Михайловича Багрова во время переселения и обустройства на новом месте жительства, описываемая С. Т. Аксаковым, во многом соответствует этим функциям: на нем лежала ответственность за поиск подходящих земель, за организацию переезда, руководство при строительстве мельницы и т. д. В дальнейшем, уже освоившись на новых землях, Степан Михайлович выступает в роли рачительного хозяина, справедливого судьи: «Он был истинным благодетелем дальних и близких, старых и новых своих соседей, <...> Полные амбары дедушки были открыты всем — бери, что угодно. <...> К этому надо прибавить, что он был так разумен, так снисходителен к просьбам и нуждам, так неизменно верен каждому своему слову, что скоро сделался истинным оракулом вновь заселяющегося уголка обширного Оренбургского края. Мало того, что он помогал, он воспитывал нравственно своих соседей! <...> Много семейных ссор примирил он, много тяжебных дел потушил в самом начале. Со всех сторон ехали и шли к нему за советом, судом и приговором — и свято исполнялись они!»8
В созданном Аксаковым образе Багрова-деда можно выделить и иные важные черты, или, используя термин В. Я. Проппа, атрибуты,9 которые традиционно связываются с архетипом героя-первопредка. Так, как ни странно, одной из важнейших особенностей характера Степана Михайловича, восходящей к этому архетипу, является его гневливость, описанию проявлений которой посвящены многие страницы книги. То место, которое занимает эта черта характера в художественном образе Багрова-деда, конечно, обусловлено яркостью впечатления, оставшегося в памяти Аксакова, бывшего в детстве свидетелем реальной вспышки гнева своего деда. Недаром воспоминание об этом, нарушая хронологическую последовательность событий, он поместил почти в самом начале своей хроники: «Как теперь гляжу на него: он прогневался на одну из дочерей своих, кажется, за то, что она солгала и заперлась в обмане; двое людей водили его под руки; узнать было нельзя моего прежнего дедушку; он весь дрожал, лицо дергали судороги, свирепый огонь лился из его глаз, помутившихся, потемневших от ярости! „Подайте мне ее сюда!” — вопил он задыхающимся голосом» (С. 90).
Вспыльчивость Степана Михайловича, как было сказано выше, связана с архетипом «культурного героя». Более того, по мнению Е. М. Мелетинского, для него типично внешне парадоксальное сочетание свойств характера: «Это единство противоположностей в образе героя — его строптивость на фоне эпической гармоничности — важная специфика изучаемого архетипа».10 В истории литературы подобное сочетание распространено исключительно широко, особенно в архаичных формах героического, богатырского эпоса. Позднее, перекочевав в литературу, архетип «культурного героя» постепенно утрачивает фольклорный элемент богатырства, и на передний план выходит вспыльчивость как особенность психологического склада героя. Именно с такой трансформацией мы имеем дело в «Семейной хронике». И сам С. Т. Аксаков постоянно и настойчиво подчеркивает, что гневливость Степана Михайловича является хотя и важной, но отнюдь не главной чертой его характера, проявляющейся лишь в исключительных ситуациях.
По мере того как рассматриваемый нами архетип развивался и модифицировался в рамках эпической традиции, изначально свойственные герою магические способности начинали играть все меньшую роль — в итоге сложился новый образ богатыря, который способен противостоять волшебным силам сам.11 В связи с этим стоит обратить внимание на отрицательное отношение Степана Михайловича к различным суевериям и колдовству. В хронике есть довольно примечательный в этом контексте эпизод: «Дедушка вообще колдовству мало верил. Даже стрелял один раз (вынув тихонько дробь) в колдуна, который уверял, что ружье заговорено и не выстрелит; разумеется, ружье выстрелило и крепко напугало колдуна, который, однако, нашелся и торжественно объявил, что дедушка мой „сам знает”, чему и поверили все, разумеется, кроме Степана Михайловича» (С. 151). Интересно, что этот эпизод помещен Аксаковым не в основном тексте, а вынесен в виде сноски, что, казалось бы, служит своего рода переведению этого эпизода в разряд второстепенных, но на самом деле выделяет его на фоне остальных как заслуживающий особого упоминания.
В мифах «культурному герою» часто сопутствует его комический дублер — трикстер. В архаичных мифах он функционировал как одна из разновидностей «культурного героя» или его брат-близнец, но со временем этот персонаж эволюционировал и в литературе чаще всего предстает в образе ловкого плута, иногда исполняющего обязанности слуги. Существенной чертой характера трикстера является его прожорливость, ради удовлетворения которой он готов на всякие проделки; к тому же он не прочь посмеяться над своим хозяином, например пародируя его.12 В «Семейной хронике» всеми этими признаками наделены двое слуг: Ванька Мазан и Танайченок. Своими характерами они дополняют друг друга и в своих проделках выступают как единое целое: «От сна и от жара пересохло, у них в горле, захотелось им прохладить горячие гортани господской бражкой с ледком, и вот на какую штуку пустились дерзкие лежебоки: в непритворенную дверь достали они дедушкин халат и колпак, лежавшие на стуле у самой двери. Танайченок надел на себя барское платье и сел на крыльцо, а Мазан побежал со жбаном на погреб, разбудил ключницу, которая, как и все в доме, спала мертвым сном, требовал поскорее проснувшемуся барину студеной браги, и, когда ключница изъявила сомнение, проснулся ли барин, — Мазан указал ей на фигуру Танайченка, сидящего на крыльце в халате и колпаке; нацедили браги, положили льду, проворно побежал Мазан с добычей. Жбан выпили по-братски, положили халат и колпак на старое место и целый час еще дожидались, пока проснется дедушка» (С. 97—98). Поведение Мазана и Танайченка полностью соответствует тому, как должен поступать типичный слуга-трикстер. Налицо все основные атрибуты архетипа: и пародирование хозяина, и обжорство, и вороватость, и выдумка, и находчивость при совершении обмана. Поведение Степана Михайловича также полностью следует традиции этого «бродячего сюжета»: «Еще веселее утрешнего проснулся барин, и первое его слово было: ‚‚Студеной бражки”. (…) С первых слов обман открылся, и дрожащие от страха Мазан и Танайченок повалились барину в ноги, и что ж, вы думаете, сделал дедушка?.. Расхохотался, послал за Аришей и за дочерьми и, громко смеясь, рассказал им всю проделку своих слуг» (Там же).
Итак, образ Степана Михайловича в «Семейной хронике» содержит целый ряд атрибутов и функций, присущих «культурному герою»: его роль организатора и устроителя жизни на новых местах, носителя власти и нравственного авторитета; такие типологически важные особенности его характера, как гневливость и стойкость по отношению к колдовскому воздействию; присутствие рядом слуги-трикстера и др. При этом важно отметить, что архетип «культурного героя», являясь одним из древнейших, имел разные пути развития в разных жанрах фольклора. Те составные элементы, которые присутствуют в образе Степана Михайловича, несут на себе отчетливые следы эволюции в рамках именно эпической традиции, а не, например, сказки.
Начало и конец текста по определению занимают ключевое место, и семантика их во многом определяет восприятие смысла произведения в целом. Выше мы обратили внимание на то, что уже в первых строках «Семейной хроники» появляются мотивы, связанные с категориями родства. Развивая заложенную в идее генеалогической категории родства «вертикальную» временную координату «семейного хронотопа», они направляли внимание читателя в прошлое, к истокам рода, его происхождению и древности. Однако постепенно по ходу развития сюжета «Семейной хроники» вектор читательского восприятия меняет свое направление, к концу произведения оказываясь развернутым на 180° — в будущее семьи. Происходит это по мере введения в ткань повествования особого мотива — «мотива ожидания наследника» — и достигает своей кульминации в логическом его завершении: получении Степаном Михайловичем известия о рождении внука. Итак, круг замыкается, Аксаков расставляет все точки над «и»: мотивы, связанные с Идеями рода и наследования, как бы охватывают произведение, создавая композиционную рамку и семантически маркируя важнейшие, ключевые части текста — его начало и конец.
Идея генеалогической категории родства задается преимущественно временной координатой, через наследование от деда через сына к внуку, поэтому уже в силу самой внутренней логики этого процесса особую роль играет мотив, напрямую связанный с идеей продолжения рода, упомянутый уже нами «мотив ожидания наследника». Хронотоп этого мотива имеет свою особую специфику, проявляющуюся в том, что по мере включения его в ткань повествования время фабулы и время сюжета начинают все более совпадать друг с другом. Как следствие этого, события разворачиваются в строгой хронологической последовательности, направленной к определенной точке — моменту рождения будущего героя. Эта закономерность проявляет себя в «Семейной хронике», когда после знакомства Алексея Багрова со своей будущей женой события описываются с соблюдением их реальной хронологии. Время в них течет довольно плавно, почти без скачков до самого рождения Багрова-внука, и финал книги оказывается одновременно и кульминацией повествования. Эта кульминация, сфокусированная на факте рождения наследника и нового героя, естественным образом «открывает» конец произведения, закладывает потенциальную возможность его продолжения.13
В фольклорной эпической традиции рассказ о рождении нового героя обычно служит своего р0да введением целой серии повествований о его жизни. Сходным образом «Семейная хроника» своим окончанием открывает целый цикл мемуарно-биографических произведений С. Т. Аксакова. Именно благодаря наличию этой, казалось бы, второстепенной композиционной особенности «Семейная хроника» оправдывает свое название, становится действительно «хроникой», воспроизводя в своей структуре специфичное для этого жанра сочетание: линейную хронологию событийного ряда и «открытость конца».
Архетипы предка и потомка тесно связаны между собой; по сути, каждый из них не может мыслиться без другого. Именно в диалектическом единстве архетипов первопредка и наследника реализуется сама идея единства рода, реализуется через акт наследования, которое воспринимается как воплощение в потомках своих предков. Поэтому вполне закономерно, что среди всех героев «Семейной хроники» именно Степан Михайлович больше всех озабочен «судьбой рода». Эта озабоченность, внешне выраженная в повествовании через описание естественных чувств, сопутствующих ожиданию рождения внука, находит еще одно свое выражение в присутствии особого мотива генеалогической записи о нем в родословной. Недаром финал книги отмечен не просто получением сообщения о рождении Багрова-внука, но глубоко символичным формальным актом вписывания его имени: «Первым движением Степана Михайлыча было перекреститься. Потом он проворно вскочил с постели, босиком подошел к шкафу, торопливо вытащил известную нам родословную, взял из чернильницы перо, провел черту от кружка с именем ‚‚Алексей”, сделал кружок на конце своей черты и в середине его написал: „Сергей”» (С. 279).
То, что повествование заканчивается не рассказом об обстоятельствах рождения и не описанием младенца, & эпизодом, когда Степан Михайлович пишет его имя на родословном древе семьи, — не случайность. Судя по всему, лично для С. Т. Аксакова и идея наследования, и формальное ее закрепление в виде генеалогической записи имели особое значение. Об этом говорят не только регулярное воспроизведение этого мотива в «Семейной хронике», но и факты его личной биографии. Так, в 1832 году он подавал официальный запрос о подтверждении генеалогических данных в Палату родословных дел,14 а в архивных материалах сохранилась собственноручная родословная запись Сергея Тимофеевича о рождении первого сына. Не будет особой натяжкой считать, что здесь мы являемся свидетелями процесса формирования литературного мотива. Вспомним еще одно определение Веселовского, согласно которому «сюжеты — это сложные схемы, в образности которых обобщились известные акты человеческой жизни и психики в чередующихся формах бытовой действительности».15
Мотив генеалогической записи, конечно, имеет непосредственное отношение к бытовой действительности русской помещичьей среды. Он отражает важнейший акт психики, поскольку связан с таким значимым для любого человека событием, как рождение ребенка. К тому же само по себе действие — внесение записи в родословную — имеет символическое значение: социализация этого нового человека, включение его как равноправного члена в систему семейных и — шире — общественных связей. Наконец, время появления этого мотива в литературе — событие совсем недавнего прошлого, поскольку переход от устной формы бытования родословных к письменной — явление сравнительно позднее. В России широкое распространение такие записи получили лишь на рубеже XVII — XVIII веков после создания в 1682 году Палаты родословных дел.
* * *
Через архетипы предка и наследника реализуется вертикальная, временная координата генеалогической связи, но здесь важно сделать существенное дополнение: это происходит, когда оба они мужчины. Исторически сложилось, что изначально женщины в генеалогических записях вообще не учитывались; к примеру, древнейшие русские родословные назывались «Росписи мужских потомков». В рамках патриархальной культуры женщина не является продолжателем рода, и выражение «Авраам родил Исаака» с точки зрения той логики не просто не входит в конфликт со здравым смыслом, но даже и легкого оттенка парадоксальности на себе не несет. Ролью женщины было не продолжать род, а служить связующим звеном межцу разными родами, судьба ее — уйти из дома отца в дом мужа. Так через ее замужество реализуется пространственная координата родословия. В своей работе, посвященной генеалогии, Флоренский пишет об этом: «Род (отец, сын) есть время, осуществленное через последовательность трех поколений. Жена есть пространство».16
Сватовство и брак в литературе — практически всегда перемещения в пространстве. Ярче всего это обнаруживается в фольклоре. В сказках свадьбе обычно предшествуют длительные путешествия героя в поисках невесты. Эти поиски сопровождаются различными приключениями, опасностями и испытаниями, в которых выявляется истинный характер героя. По сути дела эти путешествия играют в сказке главную роль, поскольку, по лаконичному определению В. Я. Проппа, «композиция сказки строится на пространственном перемещении героя».17 Да и сама традиционная обрядовая форма свадьбы также в значительной мере связана с идеей перемещения, что проявляется в плане символическом через мотивы перехода из одного мира в другой, а в реальной жизни — через уход невесты из семьи родителей в семью мужа.18 Наконец, те или иные предшествующие свадьбе перемещения в пространстве широко распространены и в беллетристике: например, скитания героя в чужом мире среди чужих людей предшествуют обретению идиллического мирка в английском семейном романе.
Мы уже отмечали, что тематика семьи в своей основе держится на переплетении генеалогических связей «родства», как родовых отношений предков с потомками, и «свойства», как следствия брака. Отсюда необходимым условием существования «семейного хронотопа» оказывается внутреннее равновесие в нем пространственной и временной координат. Достигается оно через введение мотивных комплексов, реализующих пространственные, горизонтальные нити человеческих отношений. Два из них наиболее эффективны в этом отношении. Первый включает в себя набор архетипов и мотивов, объединенных идеей брака, — архетипы жениха (мужа) и невесты (жены), а также разнообразные мотивы, сопутствующие обряду свадьбы: поиск женихом невесты, преодоление возникающих в ходе его препятствий и др. Второй, широко распространенный мотивный комплекс, позволяющий компенсировать недостаток горизонтальной составляющей семейного хронотопа, непосредственно связан с самим процессом перемещения в пространстве — с переездами, путешествиями и, наконец, со знаменитой «метафорой жизненного пути».19 В своих мемуарно-биографических произведениях Аксаков для достижения искомого внутреннего равновесия задействует оба указанных мотивных комплекса: первый используется преимущественно в «Семейной хронике», второй — в «Детских годах Багрова-внука».
Алексей Степанович Багров и Софья Николаевна Зубина становятся реально действующими персонажами лишь в третьем отрывке «Семейной хроники». Этот отрывок посвящен почти исключительно предыстории их свадьбы, и вполне естественно, что в структуре их образов должны были найти свое выражение черты архетипов «жениха» и «невесты».
Что касается образа Софьи Николаевны, то более подробно рассматривает его соотнесенность с фольклорными сюжетами в своей диссертации Н. Г. Николаева.20 Она обнаруживает в истории женитьбы молодого Багрова важные составные элементы мифологического сюжета о поиске героем мудрой невесты и последующей женитьбе на ней. Так, в завязке повествования Алексей Степанович, сочетающий в себе функции сказочного Иванушки-дурачка и мифологического героя, отправляется в чужие края (Уфу). Там он влюбляется в «красавицу-волшебницу» Софью Николаевну. Но на пути героя встает целый ряд препятствий, успешно преодолеть которые ему помогает «волшебный помощник» — Алакаевна.21 Наконец наступает ключевой момент сватовства — встреча жениха с будущим тестем, в ходе которой, в соответствии с логикой сказочного сюжета, происходит самое важное — испытание героя, которое он преодолевает лишь с помощью магических сил своей невесты.
В «Семейной хронике» в период своего сватовства Алексей Степанович четырежды встречается со старшим Зубиным, каждый раз производя на него неблагоприятное впечатление, которое удается изменить лишь благодаря хитрости и «чародейству» Софьи Николаевны: «Второе посещение не поправило невыгодного впечатления, произведенного первым; но при третьем свидании присутствовала Софья Николавна, которая, как будто не зная, что жених сидит у отца, вошла к нему в кабинет, неожиданно воротясь из гостей ранее обыкновенного. Ее присутствие все переменило; она умела заставить говорить Алексея Степаныча, знала, о чем он может говорить и в чем может выказаться с выгодной стороны его природный, здравый смысл, чистота нравов, честность и мягкая доброта. (…) Когда Алексей Степаныч ушел, старик обнял свою, Сонечку со слезами и, осыпая ее ласковыми и нежными именами, назвал между прочим чародейкой, которая силою волшебства умеет вызывать из души человеческой прекрасные ее» качества, так глубоко скрытые, что никто и не подозревал их существования» (С. 171).
История женитьбы молодого Багрова, являясь составной частью «Семейной хроники», по мнению Н. Г. Николаевой, укладывается в общую сюжетную схему, восходящую к комплексу мифов творения и обновления: «Итак: сюжет С<емейной> Х<роники> связан темой „собирания семьи”. Он представляет собой последовательное развертывание мифа от сакрально-эпического ядра творения первого поколения Багровых, через профанное снижение второго поколения (в образе слабого сына) к обновлению рода через его женитьбу на чудесной невесте и дальнейшему воссозданию, собиранию мира в сознании маленького Сережи».22
Хотелось бы сделать, однако, пару замечаний относительно образа Багрова-сына. Действительно, в третьем отрывке «Семейной хроники» Алексей Степанович предстает пред нами как человек слабого характера, недостаточно образованный даже по меркам провинциального уфимского общества. Сам Аксаков неоднократно подчеркивает в нем присутствие этих черт, но свидетельствует ли все это о вырождении рода? Прежде всего, в образе Алексея Степановича отсутствуют важнейшие черты, свидетельствующие о вырождении именно рода (безумие, мотовство, пьянство), да и в результате его дальнейшей хозяйственной деятельности семья отнюдь не разорилась. Отмеченные же нехватка образования и застенчивость — это, скорее, следствие его деревенского воспитания и молодого возраста. Какое бы, к примеру, впечатление производил, оказавшись один в городской, чиновничьей среде, его отец, человек сильного характера? При всей условности любых предположений, вероятнее всего, он выглядел бы таким же малообразованным и потерянным, как любой другой в малознакомом обществе, среди людей не своего круга.
Итак, в образе Алексея Степановича присутствует целый ряд атрибутов, свойственных прежде всего сказочному герою. Заметим, именно сказочному, а не эпическому. Разница здесь имеет принципиальный характер. Хотя оба типа героев своими корнями уходят в общее мифологическое прошлое, в обоих присутствуют элементы, связанные с сюжетами творения, преображения мира и с обрядом инициации. Дальнейшая история развития жанров трансформировала их в разных направлениях. В эпосе на первый план вышли мотивы творения, родовое и героическое начала, а в сказке, испытавшей сильное влияние со стороны «переходной» обрядности (брак, инициация), — начало индивидуально-бытовое.23 В итоге все это отложило специфический отпечаток и на образ героя с точки зрения его возрастной характеристики. Эпический герой в пору своей деятельности по устроению мира предстает перед слушателем, читателем либо как вполне взрослая, сложившаяся личность, либо вообще безотносительно к своему возрасту. В свою очередь, для сказочного героя принципиально то, что мы застаем его в переходный для него момент возмужания, ведь именно в этот период совершался обряд инициации, да и браки заключались в архаических обществах, как известно, по нашим меркам довольно рано.
Алексей Степанович, такой, каким мы его встречаем в «Семейной хронике», несмотря на свой 27-летний возраст, во многом остается еще подростком. Родители и сестры относятся к нему как к большому ребенку. Непонимание же им мотивации людских поступков и общих правил поведения имеет место не только в отношении к городскому обществу, но и к членам собственной семьи. Он пока еще не понимает подсказанных жизненным опытом советов «умной старухи» Алакаевны (С. 147) и не видит подоплеки интриг приехавших на свадьбу сестер. Но, с другой стороны, он довольно быстро учится, и, с точки зрения сюжета, можно, наверное, сказать, что события третьего отрывка — это не только рассказ о женитьбе молодого Багрова, но и история его взросления. А то, что это действительно история взросления, подтверждает, кроме прочего, и присутствие в ней мотивных элементов инициации в форме рассказа о смерти и воскресении героя. Так, приехав из Уфы домой в деревню и встретив открытое неприятие его намерения жениться на Софье Николаевне со стороны всех родных, Алексей Степанович серьезно заболевает. Болезнь быстро прогрессировала: «Через неделю он лежал в совершенной слабости и в постоянном забытьи: жару наружного не было, а он бредил и день и ночь (…) ему становилось час от часу хуже, и, наконец, он сделался так слаб, что каждый час ожидали его смерти» (С. 155). Но далее, в соответствии с логикой развития мифологического сюжета, смерть упраздняется воскресением: «И ровно через шесть недель Алексею Степанычу стало полегче. Он проснулся к жизни совершенным ребенком, и жизнь медленно вступала в права свои; он выздоравливал два месяца; казалось, он ничего прошедшего не помнил» (Там же). Отмеченная здесь детскость теперь уже носит лишь поверхностный, внешний характер, возрождение к жизни символизировало начало реального возмужания героя: «Через несколько месяцев после отъезда Алексея Степаныча из деревни вдруг получили от него письмо, в котором он с несвойственной ему твердостью, хотя всегда с почтительной нежностью, объяснил своим родителям, что любит Софью Николавну больше своей жизни, что не может жить без нее, что надеется на ее согласие и просит родительского благословения и позволения посвататься» (С. 155—156).
В силу архаичности жанра сказки, сохраняющего реликты матриархального способа организации семьи, свадьба в ней понимается не как переход жены в род мужа, а, наоборот, как приход мужа в род жены.24 С точки зрения формирования пространственной составляющей «семейного хронотопа» большой роли это различие не играет, но может оказывать некоторое влияние на типологию персонажей и связанную с ней мотивную организацию произведения. В частности, целый ряд атрибутов и функций отца невесты, порожденных отмеченной спецификой сказочного сюжета, архетипичны для образа Николая Федоровича Зубина. Например, отрицательное отношение к жениху и, как следствие, препятствование замужеству дочери. Исторически этот мотив связан с архаичным обычаем престолонаследия, когда новый царь должен был убить старого после женитьбы на его дочери, но, как отмечает В. Я. Пропп, в период формирования жанра волшебной сказки эта мотивация уже была забыта, и, чтобы объяснить неприязнь тестя к зятю, в рассказ вводятся фигуры всякого рода клеветников.25 Функции последних явно несет на себе слуга и любимец Николая Федоровича Калмык, который, пытаясь удержать узурпированную им власть в доме, использует свое влияние на хозяина против молодых супругов.
Наконец, архетипична в образе Зубина сама его старость, сопровождаемая болезнями, дряхлостью и утратой власти над домом. Архетипична, поскольку в соответствии с логикой развития сказочного сюжета «возраст, болезнь, немощи служили стимулом для замены царя».26 Как следствие этого оказывалось, что именно род невесты, а не жениха, находился в состоянии упадка и нуждался в Обновлении. И каковы бы ни были индивидуальные особенности характера Алексея Степановича, в соответствии с этой логикой именно он становился носителем мотивной функции героя-победителя, поскольку ему, «зятю, разрешившему „трудную задачу” и тем доказавшему свою силу»,27 передается власть в «царстве». Царство это пространственно соотносится с локусом невесты, в «Семейной хронике» — с Уфой, и, как ни странно, передача власти в ней носит отнюдь не метафорический характер: ведь старший Зубин, занимая довольно высокое место в чиновничьем мире губернии, перед своей кончиной успевает составить протекцию зятю, Алексею Степановичу: «Я забыл сказать, что по ходатайству умиравшего старика Зубина, незадолго до его смерти, Алексея Степаныча определили прокурором Нижнего земского суда» (С. 268). Так, снова в соответствии именно со сказочной логикой развития сюжета, «воцарение героя» совпадает во времени со «смертью царя», отца невесты.
Количество мотивных комплексов и архетипов, связанных с понятием «семья», очень велико, и в этой работе мы указали лишь на некоторые из них: архетипы «первопредка» и «потомка», мотивы наследования, сватовства и свадьбы. Мы рассмотрели лишь небольшую часть мотивов, объединенных семейной тематикой, некоторые из них остались вне рамок работы‚ например обширный мотивный комплекс материнства, который играет очень важную роль в последнем отрывке «Семейной хроники».
Мы изначально
определили направление исследования, сконцентрировавшись на семейной
тематике в хронике Аксакова и основывая свой анализ на категориальной
базе, предложенной о. П. Флоренским. «Семейная хроника»
дала обширный материал для иллюстрации того, как группы мотивов
сливаются в комплексы, сориентированные по силовым линиям
генеалогических координат «родства» и «свойства».
Вертикальную и горизонтальную координаты генеалогической связи можно,
наверное, сравнить с продольными и поперечными нитями, вдоль которых,
по выражению А. Н. Веселовского, «снуются» мотивы,
выстраивая основу ткани повествования.
1 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. М., 2004. С. 500.
2 Там же. С. 495.
3 «Для того чтобы словесная конструкция представляла единое произведение, в нем должна быть объединяющая тема, раскрывающаяся на протяжении произведения» (Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 2008. С. 176).
4 Мы не будем приводить всю посвященную этим терминам библиографию. Однако хотелось бы упомянуть, как заслуживающую особого внимания, недавно опубликованную монографию И. В. Силантьева: Силантьев И. В. Поэтика мотива. М., 2004.
5 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. IV. С. 323 (репринтное воспроизведение издания 1903—1909 годов под ред. Бодуэна де Куртенэ).
6 Флоренский П. А., прот. У водоразделов мысли // Флоренский П. А., прот. Сочинения. М., 2000. Т. 111. Кн. 2. С. 28.
7 Там же. С. 54.
8 Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1955. Т. 1. С. 89. Далее ссылки на этот том даются в тексте.
9 «Под атрибутом мы понимаем совокупность всех внешних качеств персонажей: их возраст, пол, положение, общий облик, особенности этого облика и т. д. » (Пропп В. Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. М., 1998. С. 66).
10 Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994. С. 26.
11 «Истинный богатырь — это смелый и даже дерзкий воин, не применяющий никакого колдовства, готовый встретить любую опасность и склонный к переоценке своих сил» (Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. С. 25).
12 Мелетинский Е. М. Культурный герой // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. М.. 1992. Т. 2. С. 26—27.
13 Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. 06 искусстве. Спб., 1998. С. 208—211.
14 Кошелев В. А. Век семьи Аксаковых // Север. 1996. № 1. С. 69.
15 Веселовский А. Н. Указ. соч. С. 496.
16 Флоренский П. А., прот. Указ. соч. С. 55.
17 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 143.
18 Подобная ситуация свойственна, конечно, патриархальному типу организации семейных отношений. Сказка сохраняет в этом смысле специфичные реликты матриархата, которые, впрочем, оставляют в силе саму связь идеи брака с пространственной координатой: «При браке жена вступает в род своего мужа или, наоборот, муж вступает в род своей жены. Последний случай мы всегда имеем в сказке. Он отражает матриархальные отношения» (Там же. С. 379).
19 См.: Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Эпос и роман. СПб., 2000. С. 47 и далее.
20 Николаева Н. Г. «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова: формы письма и традиции жанра. Дис. канд. филол. наук. Новосибирск, 2004.
21 Там же. С. 160.
22 Там же. С. 179.
23 Подробнее см.: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 2000. С. 262 и далее.
24 Пропп В. Я. Указ. соч. С. 379, 410—411.
25 Там же. С. 385.
26 Там же. С. 411.
27 Там же.